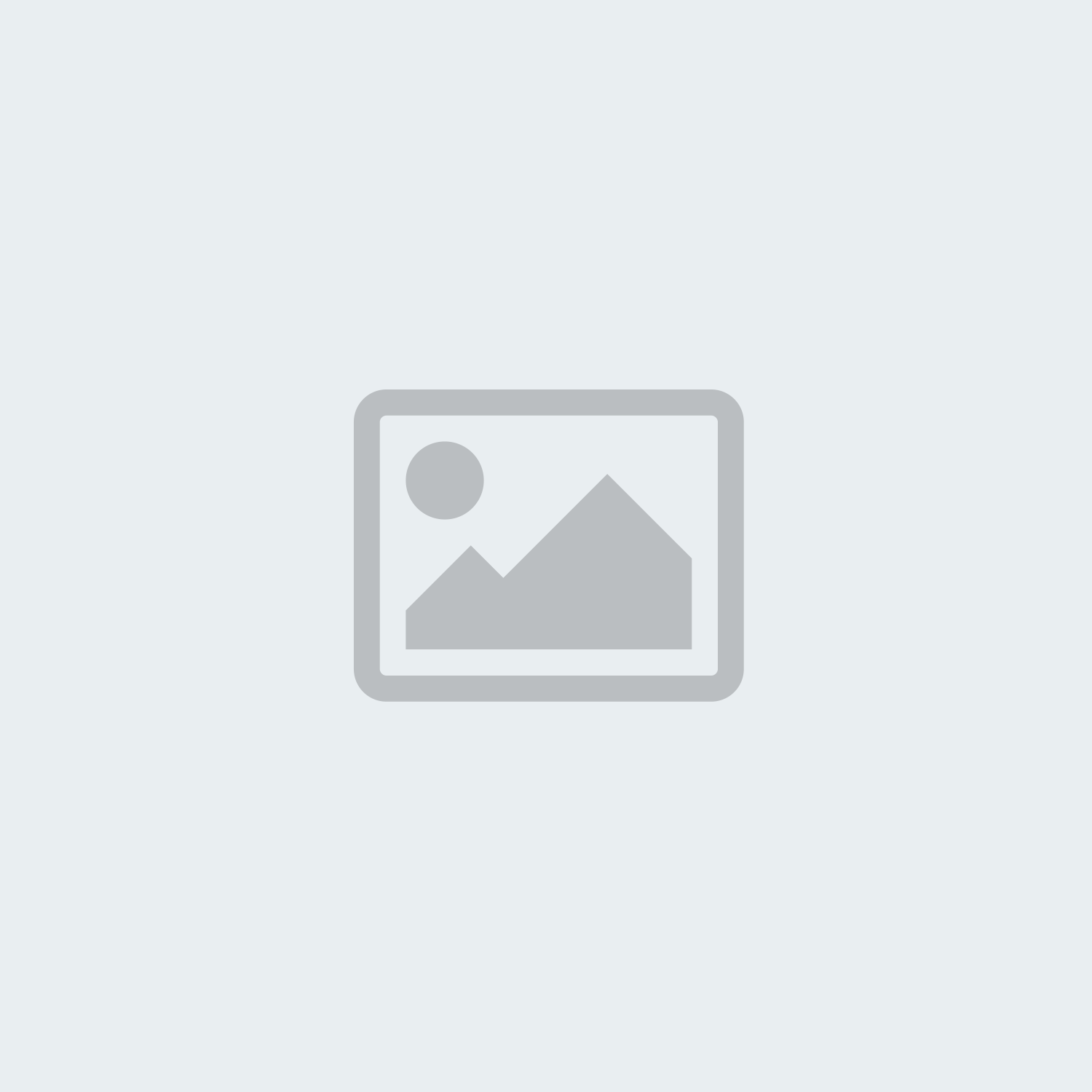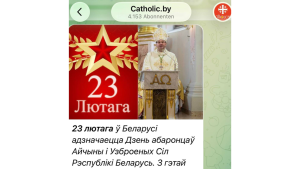Дневник политзаключенной. Часть 6. Освобождение

Продолжаем публиковать воспоминания православной христианки Елены Гаевской, которая вместе с мужем Николаем встретила в 2022 году Рождество в изоляторе на Окрестина.
Святой Максим Московский, живший в Москве XV века, на сто лет старше Василия Блаженного, говорил, а люди помнят: «За терпение Бог даст спасение. Оттерпимся и мы люди будем, исподволь и сырые дрова разгораются».
Мое терпеливое ожидание, когда я возьмусь за перо, Господь вознаградил чудным днем освобождения. Меня забрали в ночь на 1 января, меня освободили из заключения в ночь на 14 января — и то и то Новый год. 13 января в карцере мы играли в города, читали стихи, а вечером случилось неожиданное. Дверь камеры отворилась, и в нее решительно и грозно вошел ангел. У меня перехватило дыхание: я подумала, что освобождение окончательное. Лицо ангела выражало гнев и возмущение, и двери больше не нужны, стены сейчас рухнут, небо будет свернуто, а каждый человек даст ответ за дела всей своей жизни. Тут же были забыты все обиды, покаянное чувство трепета уже видело рай, но дверь закрылась, а ангел села рядом с сестрами и заплакала. Она оказалась в самом деле ангелом, но еще совсем по-человечески уязвимой. Не успела мамины анализы отнести онкологу, сегодня арестовали за какую-то прошлогоднюю новость, сразу судили, дали сутки. Ничего, врач разберется, а мы вместе стали играть в крокодила, только без пантомимы. Потом ангела забрали в другую камеру, нам объявили отбой, а я уселась на шконку перед дверью не сводить с нее глаз. Патрульный делает обход раз в пятнадцать минут, отбой в десять, мне освобождаться в полдвенадцатого. Я загибаю пальцы — в таком состоянии я не могу ничего запомнить. Раз, два, три, четыре… «Вы почему шумите?!» — «Я сегодня освобождаюсь!» — «Но уже отбой и шуметь нельзя». Это он подошел специально замечание сделать или это уже очередные пятнадцать минут? Ох, будем считать, что пятнадцать минут, значит, пять. Шесть! Я обуваю ботинки. Встаю, сердце сто пятьдесят ударов в минуту. А если не придут? Я колотить в дверь не могу, как Коля рассказывал, я просто не сойду с этого места. Но вот шаги! А теперь тишина. Снова шаги, Боже мой, лязг засова! Дверь открыта, я тороплюсь хоть как-то обнять остающихся и выхожу в коридор. «Лицом к стене. Идите. Поднимайтесь на третий этаж». На третий? Выход на первом. Опять в камеру? Я шагаю в темноту неизвестности, как в ад. Но нет, на досмотр. Медосмотр хуже, честное слово. Тут все плохие, а в белорусской поликлинике только ты инопланетянин, который зачем пришел. А дальше уже быстрее, не дрожи рука, пиши фамилию красиво.
Как канатоходец, вообще не смотрю по сторонам. Куча пакетов с передачами — где есть приказы и инструкции, логика не нужна. Ладно, но тюрьма кроме тюрьмы не нужна больше нигде! Вслед за патрульным выхожу на улицу. Радости нет, сердце разбито страданиями ближних и дальних, и пока Коля не освободился, всё несносно. Радуются встрече родные и просят не писать ничего. Может, не посадили бы, если бы и раньше не писала. Нет, говорю, я пишу хорошо, а те, кто пишет плохо, от того что я перестану, сами писать не перестанут.
Утром еще не будет телефона, но я возьму, наконец, блокнот и карандаш и напишу первый рассказ о тюрьме. Я родилась в 1978 и хорошо знаю, что за слова нужно отвечать. Еще я знаю, что любого человека можно сломать. Но если я буду писать, не останется тайной что сломали, а если сама замолчу, то убийство будет полным. Поэтому не писать не имеет смысла, а мне в свои 43 года уже не раз приходилось жалеть о несказанном.
В РУВД за телефоном еду смело — в норвежском пальто и в шали будем считать что испанской я думала о том, что место поэта — на Родине, а сам он бывает где пожелает: он трагедию жизни творит в грезофарс…