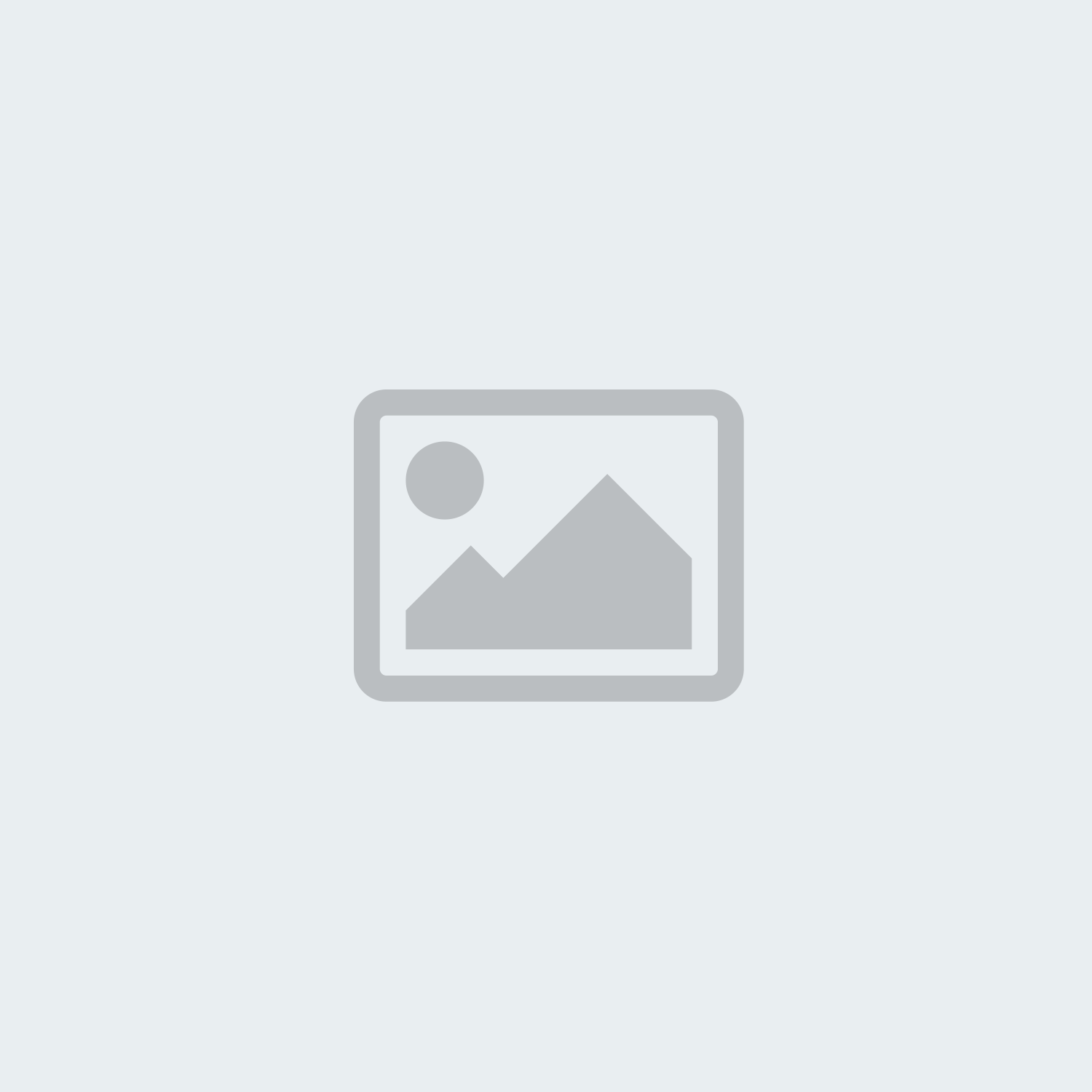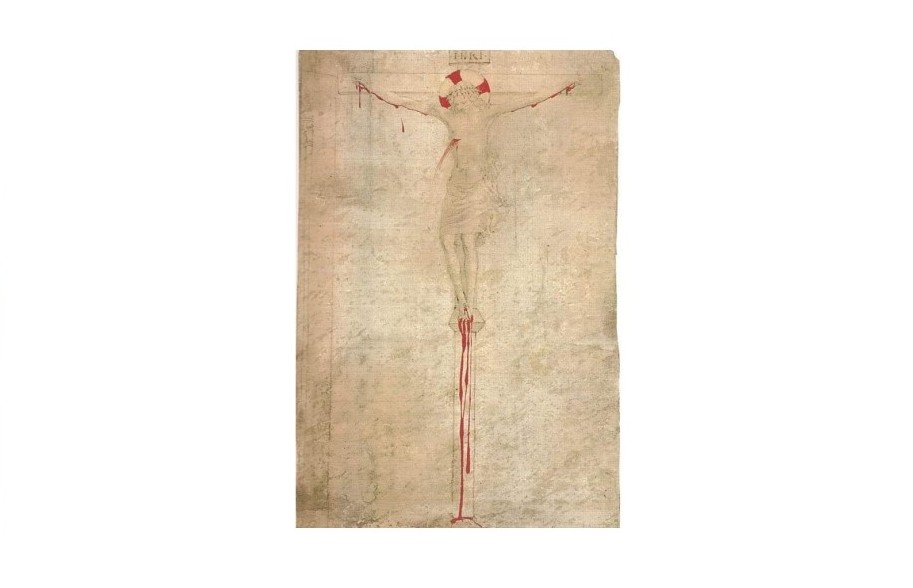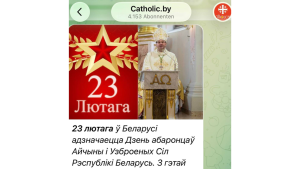Дневник политзаключенной. Часть 2. Карцер

Продолжаем публиковать воспоминания православной христианки Елены Гаевской, которая вместе с мужем Николаем встретила в 2022 году Рождество в изоляторе на Окрестина. Начало здесь.
Когда у меня в тюремной камере появилась соседка, родственная душа, перед нами встал вопрос: во что бы нам играть. Ни бумаги, ни карандаша, ни книги, ни журнала — ничего у нас не было. Из рассказов про тюрьму я вспомнила, что из тюремного непропеченного хлеба можно слепить шахматы. Но в шахматах мы обе оказались не сильны. А вот шашки нас устроили со всех сторон: и играть просто, и сделать просто. Мы взяли белый хлеб, отделили корки от мякиша, крышкой от тюбика зубной пасты наделали 16 отличных кругляшей и положили их в салфетке на просушку. Вечером собирались взять чёрного хлеба и доделать комплект. Но вечером хлеба не дали, зато за нами пришли. Тюремщик велел собраться на выход с вещами.
Моё сердце упало. И так я уже перенесла нелепый арест, клевету в суде, трудное соседство на Рождество, а вот теперь и везти куда-то собрались. Мои руки дрожали, я чувствовала, что у меня нет никаких сил на переезд подальше от дома, но я повторяла себе: «Это тюрьма, здесь нет ничего хорошего, как нет ничего хорошего, когда ты волнуешься за ближнего и не можешь спать даже в уютной кровати, как нет ничего хорошего, когда ты переживаешь за хаос в стране и ничего не можешь делать, как нет ничего хорошего, когда в тебе проснулась болезнь, и твоё тело становится твоей пыткой и некуда скрыться от неё, и врачам доверия нету. Вся наша земная жизнь тюрьма, но она же и путь, на котором мы встречаем Бога. Вперёд же и не бойся». Тюремщик выпустил нас из камеры, провёл на этаж ниже и завёл в другую камеру. Уффф! Какое облегчение! Мы остались в Минске!
А в новой камере ещё одно утешение: большие деревянные нары. После металлической решётки это просто привилегия! Наконец-то я отдохну ночью. Но моей соседке камера совсем не нравится, она во всём видит ухудшение по сравнению с прошлой. Так и есть, эта камера куда суровее, она больше похожа на бутафорию какого-нибудь молодёжного клуба «Алькатрас», чем на реальность. Пол не деревянный, а плиточный, стола-общака нет, как нет и лавки, и раковины — из стены торчит один кран, на кране висит тряпка, под краном стоит ведро. Окно из белого пластика всё в плесени. Под окном чётко и ровно нацарапан крест, на стенах рядки рисок, какими заключённые считают дни. «Это тюрьма, — повторяю я, — это тюрьма, здесь ничему не верят, ничего не боятся и ничего не просят. Что есть, то есть, здесь плохо, но это тюрьма, а в тюрьме нет ничего хорошего».
Наступает ночь, но отдыха на деревянных нарах не получается, нашу камеру в полночь превращают в пьяную ночлежку. Тюрьма — не курорт, всегда будь готов к испытаниям, потому что и они пройдут, но как ты выдержал, так и будет записано в книге твоей жизни. Утром злобные демоны оказываются бледными женщинами, их скоро уводят, а я скажу вслух: «Если даже ради одного доброго слова этим несчастным я оказалась здесь, то и этого хватит для оправдания этого испытания».
Начался первый день в новой камере. Моя соседка спит сидя, а я уже больше не сплю днём, я сижу и думаю. Потом я узнаю, что до обеда здесь тяжелее всего, а пока я в странном оцепенении ума. Чей-то добрый голос из-за двери спрашивает: «Девушки, вам шконка нужна?» Догадываюсь, что это он про нары, я уже как-то слышала это слово, и сразу отвечаю: «Нужна, нужна!» Потом приходят другие с досмотром и с таким рвением бросаются поднимать шконку в вертикальное положение у стены, будто это знамя полка этих тюремщиков, честь и достоинство их службы. А я снова возвращаюсь в созерцательное состояние и в тишине камеры слышу доносящуюся из коридора беседу молодого патрульного с коллегой. Он говорит про тюрьму в другом городе: «Там в карцере не плитка, а бетон, а шконка…» И тут меня осеняет! Я вскакиваю и смеюсь: «Оля, Оля, да это ж карцер, а не камера! Нас с тобой в карцер перевели-то!» Страшный карцер, о котором я слышала столько скорбных историй, вот мы и встретились.
Когда я ждала в РУВД отправки в тюрьму, я не могла найти себе покоя, пока не решила: «Я не буду видеть в тюремщиках врагов и палачей. Я иду в тюрьму, чтобы верить, что Бог не даёт испытания зря или выше силы, чтобы бояться оскорбить Его благость даже в страшных обстоятельствах, чтобы не оставить молитву к Нему даже когда мне покажется, что Он меня оставил. Мне всё больше и больше лет, мне пора учиться беспомощности по слову митрополита Антония Сурожского: «Беспомощность не страшна, когда ты отдал всё; беспомощность страшна, когда у тебя могут отнять что бы то ни было; но отдавши себя и своё Богу и людям, не ставя условий, оставаясь только человеком, мы можем быть бесстрашны, доверчивы, истинны и правдивы, целостны и радостно-беспомощны. Мы ничего не имеем, но всем обладаем, — говорит апостол Павел, — ничего своим не почитаем, но Бог нам даёт всё. Мы богаты нашим нищенством, мы нищи — и многих обогащаем…
Вот этот строй ребёнка, который изначально даётся и потом теряется в течение жизни через то, что мы называем жизненным опытом, мы должны приобрести; потому что, если мы его не приобретаем, мы остаёмся изуродованными жизнью. О, иногда страшно опытными; порой – неуязвимо крепкими и защищёнными; но — мёртвыми. Жизни больше нет, любовь уже обусловлена, благодарность даётся скупо, за что-то; она не делается ликованием души…
Так и в конце жизни. Когда мы вглядываемся в людей, которые сумели стареть, которые постарели, не обветшав, которые не износились, а стали тонки, прозрачны, мы видим то же самое: беспомощность. И вместе с этим, потому что эта беспомощность глубоко осознана, видим бесстрашие, доверчивость и благодарность за всякий признак тепла, любви, заботы. Когда до человека доходит беспомощность такая, что он уже ничем себя не может защитить, он может или прийти в отчаяние, или стать свободным. Старик, который сумел постареть, именно делается свободным. И тогда открывается перед ним Царствие Божие, Царство любви, потому что самое его существование, условие, содержание этого существования зависят всецело от чужой любви, чужой заботы — Божией и человеческой равно: Божией через людей и непосредственно Божией, когда Господь Свое слово кладёт в его душу, касается души Своей лаской, Своей благодатью. Мечется стареющий человек тогда, когда он хочет сохранить свойства юных дней — и не может их сохранить; когда он хочет удержать гаснущие силы, гаснущий пыл души, тускнеющую ясность ума, крепость, независимость, то есть, в конечном итоге, способность жить без любви, не завися от того, чтобы его любили другие люди или Бог любил. Пока человек старается сохранить пламенность, он может только отчаиваться о том, что это пламенность проходит. Один из французских писателей, описывая старика, говорит: виден огонь в глазах юноши, — виден свет в глазах старика…»
Господь Иисус Христос сказал Своему первоверховному апостолу: «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь». Мы свободны выбирать себе путь, а Господь свободен спросить нас, куда мы идём.
За последние сто лет произошло так много перемен, что, выйдя из тюрьмы, я написала Виктору Бабарико: «Говорят, генералы всегда готовятся к прошлой войне. Где наши генералы видели войны, на которой воюют с хрупкими женщинами и трудолюбивыми мужчинами? Нет войны сейчас, есть только необыкновенное будущее, которое наступает неотвратимо, как рассвет, и как рассвет, тревожащее тех, кто привык питаться тьмой. Я очень не доверяю тем, кто борется за равноправие женщин, за национальную идею и даже за права человека — все эти битвы выиграны в прошлом веке настоящими воинами. А теперь мы имеем послевоенную разруху, где так много мошенников, что суровое испытание, в котором ты себя испытываешь сам, я не могу назвать лишним».
В карцере сидели и продолжают сидеть такие мои соотечественники, что для меня было честью разделить их горькую чашу. А мне Господь помог такими соседями, что после обеда, когда солнце красило апельсиновым цветом абрикосовые стены, в наших тёплых беседах дополнительная решётка двери напоминала колониальный стиль интерьера, а дырявая тряпка на одиноком кране вместе с ведром составляли композицию, которая краем глаза опознавалась как пальма в кадке. Самое страшное в тюрьме – это живое соседство, но именно оно, а не стены и не полки определяет, ад мы носим в себе или рай:
«Другие — это ад»; так правду ада
Ад исповедал. Ум, пойми: в другом,
Во всяком, кто — другой, во всяком — кто
Не я, меня встречает непреложно
Единый и Единственный — услышь,
Израиль! — и отходит вновь и вновь
К Его единству, и превыше всех
Обособлений, разделений — то,
Что отдано другому: хлеб и камень,
Любовь — и нелюбовь. И пусть их тьмы
Неисчислимые и толпы, этих
Других; и пусть земному чувству близость
Есть теснота, и мука тесноты, —
Себя отречься Он не может: другу —
И Друг, и Дружество; для нелюбви —
Воистину Другой. Любовь сама —
Неотразимый, нестерпимый огнь,
Томящий преисподнюю. Затвор
Блаженной неразлучности — геенне
Есть теснота, и мука тесноты.
Другой — иль Друг; любой — или Любимый;
Враг — или Бог. Не может Бог не быть,
И все в огне Его любви, и огнь
Один для всех; но аду Бог есть ад.
Сергей Аверинцев