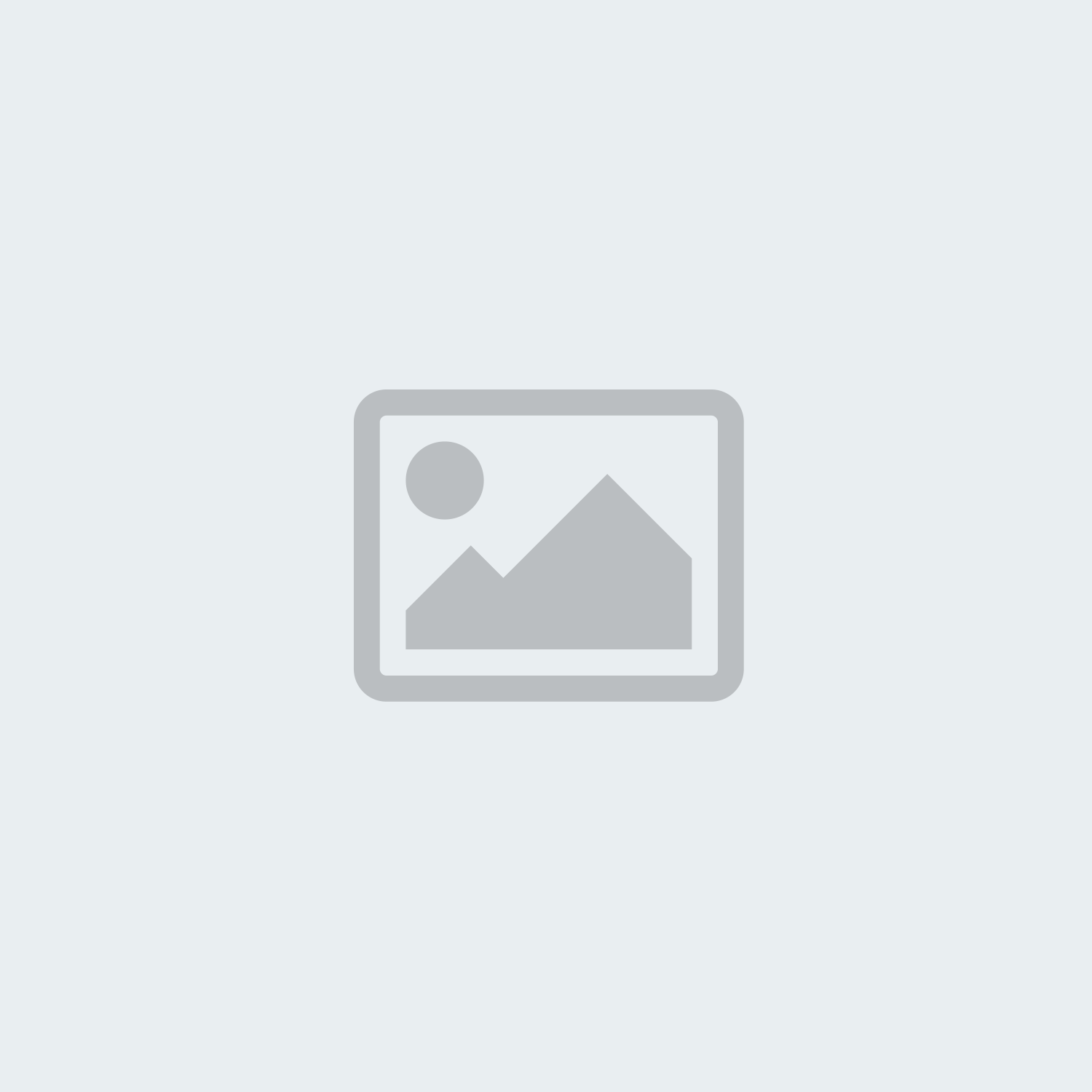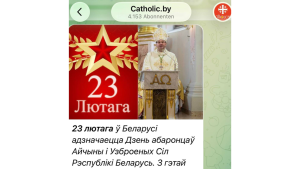Дневник политзаключенной. Часть 1. С новым счастьем!

Публикуем первую часть воспоминаний православной христианки Елены Гаевской, которая вместе с мужем Николаем встретила в 2022 году Рождество в изоляторе на Окрестина.
Но вам бегущие годины
Несли иной, нездешний звук,
И вы возьмете на Вершины
Своих подруг.
Николай Гумилёв
Мои тринадцать суток заключения в переулке Окрестина закончились, я жива и здорова, спасибо за молитвы. От тюрьмы и сумы не зарекаются, и лучше легкая бедность, а сутки на Окрестина — это пытка дыбой заключенному и ад для его родных, теперь я утверждаю это, побывав на обоих фронтах. Но тюрьма показывает тебе, чем ты на самом деле обладаешь.
Изолятор временного содержания
В ИВС душно, холодно, тесно и жирно кормят. Встретила там фонтан либерализма, бойко тараторящий феминизмы, исповедующий абсолютную свободу относительной нравственности и сестринскую верность женской солидарности. Для него хороши все: и друзья в блестках, и тюремщик в окошке, всех готовы взять в жены хоть женой, хоть мужем, и только один человек вызывает грозные обличения и решительное сопротивление — это я со своей многотрудной свободой абсолютной нравственности. Конфликт в тесной камере выплескивается гневной тирадой на просьбу перестать повторять за тюремщиком его поток сквернословия: «Мы не будем ограничивать себя ради тебя!» В ответ Бог подсказывает мне последний аргумент: закрыть лицо руками — спасительное убежище стыда. После этого время бежит быстрее, и меня забирают на суд.
Центр изоляции правонарушителей
Суд приговаривает меня к тринадцати суткам заключения, и я отправляюсь в ЦИП отсиживать одиннадцать дней.
В ЦИПе тоже страшно сквернословят тюремщики — и мужчины, и женщины. Какое-то время в интернете бытовала даже легенда, что без мата нельзя обойтись в армии, мол, проверяли, так быстрее доходят приказы. Но духовник Белой армии митрополит Вениамин (Федченков) в своей книге «На рубеже двух эпох» писал так:
«Везде матерная брань висела в воздухе. Несколько позже я обратился к главнокомандующему с настойчивой просьбой принять решительные меры против этой разлагающей гнусности.
— Хорошо! Заготовьте об этом приказ по армии от моего имени.
Я поручил написать проект моему помощнику по флоту, протоиерею о. Г. Спасскому, человеку талантливому и давно знавшему военную среду. Приказ был написан сильно и коротко. Последние две строчки приблизительно говорили: «И пусть старшие показывают добрый пример младшим в решительном искоренении этого ужасного обычая!»
Понес его генералу. Прочитал, согласился.
— Только вот, — говорит, — не лучше ли выпустить последние строчки?
— Почему? — возражаю, — ведь это же правда, что и они ругаются похабно?
— Да! Но неудобно в приказе говорить это о командирах, подорвется дисциплина.
— Хорошо, выпустите.
Он зачеркнул эти строки. Осталось ему отдать в печать и распространить по армии. Жду неделю, другую. Нет моего приказа. Иду к председателю совета министров А.В. Кривошеину.
— В чём дело? Почему нет приказа против матерщины?
— Провалили наш проект,
— Как провалили? Кто?
— Генералы! — был короткий ответ его.
У меня даже захолодело в душе. Генералы говорили, будто бы без этой приправы не так хорошо слушают солдаты их приказания. Да и привычка въелась глубоко в сердце и речь. Одним словом, провалили. И будь же тому, что вскорости после этого, не знаю как, по радио, что ли, дошли до нас слухи, будто Троцкий издал строжайший приказ по Советской армии — вывести беспощадно матерщину!»
В ЦИПе Господь подает мне Свою милость с избытком: первую неделю я сижу в камере одна, приводя мысли и чувства в порядок в условиях достойного аскетизма и хорошего здорового питания. Тогда же отмечаю, что политзаключенному логично питаться как следует, чтобы сохранять трезвомыслие и самостоятельность, каковые он и отстаивает подвигом терпения уз. Окно в моей келье по утрам являло глубину Божественного откровения бесконечно прекрасной лазури за тусклым стеклом, на которое бросал россыпь византийской мозаики электрический свет, проходя через мелкую ромбчатую сеть.
А в субботу ко мне в камеру привели такую родственную душу, что я без конца лечила связки горла маленькими глотками хорошей воды из-под крана, чтобы продолжались наши утешительные беседы о смысле жизни, добре и справедливости.
В предпоследний день моего заключения в камеру пришла представительница целевой социальной группы этой тюрьмы — Катя. Катя трудится на свалке и живет на вокзале. Она тоже иногда сильно сквернословит, и она единственная, кто за это получил удары и больший срок.
Моем посуду после обеда, Катя смотрит весело и говорит нехитрый лайфхак: «Можно не стараться хорошо мыть посуду, вероятность того, что ты снова ее же получишь, мала». На это я выпрямляюсь во всю свою редко кем виданную осанку и говорю: «Культурные люди всегда стараются поступать порядочно вне зависимости от того, делают ли для себя или для других. В этом суть культурных людей, и как сказано в золотом правиле нравственности: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Или то же категорическим императивом Канта: поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом». Катя в ответ светло улыбается, чуткое сердце приветствует культуру.
В последний день моего заключения по случаю Старого Нового года читаю сокамерницам свой перевод Мандельштама, который имела редкое счастье так удачно уточнить в минуты раздумий в тюремной пустыне, что сработала тайная пружина скрытого простого смысла:
Сусальным золатам гараць
Калядных елачак іголкі,
У кустоўе цацачные воўкі
Вачамі страшнымі глядзяць.
Т̶а̶е̶м̶н̶а̶я̶ О, дзіўная мая мараль
І ціхая мая свабода,
І нежывога зорак ходу
Адвек насмешлівы крышталь.
Замена тайного на восхищение дивным сразу привело меня к восхищению Канта звездным небом над головой и моральным законом внутри, поставленным антитезой насмешке над послушанием вечно неизменному бездумному зодиакальному колесу.
Но читаю я плохо, запинаюсь, без интонации. Катя в ответ приподнимается на локте: «А вы стихи любите? Хотите, я прочту вам редкое стихотворение?» Конечно, хотим, мы садимся кругом нее. И она читает мерно, без запинки, с напевом «Девушка и Смерть» Горького, да так, что мне сознание рисует «Весну» Боттичелли — и всё это чудо происходит в карцере. Катя завершает чтение, мы потрясены, хлопаем, и сестры начинают горько сетовать на тяжелую судьбу такого таланта. А я впечатываю этот неповторимый праздник в сердце, и теперь рассказываю всему миру о Кате, которая не нашла покоя среди нас, так нежно любящая свою 108-летнюю маму, которая помнит стихи еще лучше, и ненавидящая не дающий ей спать алкоголь.
Освобождение было волнительным, так что даже прилип к гортани язык. Крест и обручальное кольцо я надела только уже дома, вымывшись, как видимые знаки достоинства. В тюрьме я поняла, что истинный крест лежит невидимо на плечах, а истинная любовь горит в груди неусыпной молитвой. Дай, Господи, и супругу моему Коле счастливого освобождения завтра.
С Новым годом, братья и сестры! Храните достоинство, берегите честь и любите своих ближних.
На фото: Сандро Боттичелли. Весна